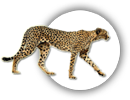Фишка в том, что теперь (на новых материалах и ЭВТ) темой аэродинамики и терморежима (главная проблема Х-литаков) будет заниматься электроника, адаптивно корректирующая форму крыльев и фюзеляжа. Не нужно больше изобретать некие статичные идеальные профили.
Хм, очень неплохая статья-наблюдение про (казалось бы) шизофренический симбиоз "красного" и "белого" :
Адепты пропаганды относятся к одному психологическому типу - авторитарному, «силовому». Однако их нынешний милитаризм в большей степени «эмоциональный», он не первопричина, а следствие. Это также реакция на утрату простой, герметичной картины мира. Утратив абсолют (советскую идеологию), они инстинктивно ухватились за архаику - и обнаружили в качестве такой ценности, абсолюта, «прочного» - войну. «Хорошего - только война», как писал поэт Лев Лосев. Их язык маскируется «памятью о подвиге», но на самом деле они всего лишь хватаются за «войну вообще», в качестве психологической опоры. Их милитаризм - это голое бахвальство, похваление «массой тела»: «мы можем вас раздавить», «можем повторить». Ради чего, во имя какой идеи?.. Ответа нет. Это кощеева игла пропаганды: у ее адептов никакой идеологии на самом деле нет вообще - кроме желания «упростить мир», вернуть «как было раньше» и заодно «показать всем, чтобы знали».
В случае с 20-30 летними адептами пропаганды, чье взросление пришлось на 1990-е годы, работает, как ни странно, тот же механизм компенсации: отсутствие уверенности в сегодняшнем дне заставляет искать опору в прошлом. Незнание советской реальности делает ее в их глазах еще более привлекательной: они живут в пространстве «небесного СССР», который они видели только в красивой упаковке сериалов и фильмов.
Все это вместе - травматическая реакция на превосходство «Запада» после распада восточного блока и появления Евросоюза. А также неспособность найти смысл в «мирной жизни» и капитализме. Нежелание признать этот факт порождает сложную систему самооправдания. Попытаемся реконструировать ее. [Коллективный пропагандист, обращаясь к коллективному «Западу»]: «Вы кое-чего добились, в техническом плане, мы это признаем. Но весь этот ваш мир жизнеспособен только до первой встречи с реальной опасностью (характерно, что «опасность» является в их представлении «нормой жизни»). И тогда увидите, что мы лучше приспособлены для выживания в жестоком мире. И вы еще сами попросите помощи - и тогда мы, конечно, спасем мир еще раз».
В основе этой конструкции, как мы видим, лежит вовсе не желание «наказать Запад», а, напротив, желание его «спасти», продемонстрировав и свою нужность миру, и одновременно «неудачу Запада». Тут есть своеобразный идеализм, желание показать себя с лучшей стороны, а не с худшей. Но, как и бывает с идеальными конструкциями, они не совпадают с действительностью. «Запад» и «мир» вовсе не желают жить в ситуации опасности (даже с учетом реальных угроз), они не желают «выживать», «сосредотачиваться», «мобилизовываться» и быть «спасенными». Это и вызывает раздражение: тем самым они не дают «нам» продемонстрировать наши лучшие качества. Отсюда искусственное нагнетание этой опасности, отсюда постоянный разговор о войне: чтобы эту тревожную ситуацию материализовать - и чтобы потом от нее же и «спасти».
Тем самым пропаганда загнала себя в интеллектуальную ловушку: идея величия России оказалась напрямую зависящей от «краха Запада». Для подтверждения этого краха и шире - краха демократии - приходится постоянно искать доказательства. Теракты, беженцы или просто снегопад в штате Вирджиния объявляются «началом краха западной цивилизации». Демократия объявляется детским заблуждением, временным помешательством человечества - поскольку она тоже «мешает» своей «слабостью» продемонстрировать миру нашу взрослость, мужество и стойкость.
Это итог разочарования, прежде всего в самих себе и обществе, которое не смогло воспользоваться преимуществами свободы в 1990-х. Оно вылилось в отрицание субъектности, индивидуальной политической воли, неверие в самостоятельность человеческих поступков в принципе. Собственная неудача породила неверие в чью бы то ни было субъектность.
...
В 1990-х мифы советские и имперские существовали в противофазе. Миф о России дореволюционной противопоставлялся Советской России (как в фильме Говорухина «Россия, которую мы потеряли»). Затем произошел их симбиоз. Вообще соединить «красное» и «белое» чрезвычайно сложно. Однако диалектическое решение было найдено - за счет исключения этики в качестве критерия оценки политического режима. Когда высшей ценностью объявляется не человек, а государство, все жертвы в конечном итоге оправданны.
Новый культ Сталина возник не случайно (упоминание его имени и отчества в речи пропагандистов служит сегодня своеобразным кодом для опознавания свой/чужой), вовсе не по прихоти его адептов вроде Проханова, а по вполне рациональным причинам. Именно он - наиболее подходящая фигура для диалектического соединения красной идеи и белой. Согласно этой новой конструкции, «Ленин развалил империю», а Сталин ее восстановил - в виде красной империи. Сталин является сегодня точкой соединения царского проекта и советского. «Служение государству» признается единственной этикой - а все остальные этики вторичны. Вот слова Патриарха (6 ноября 2015 года, выступление на открытии выставки-форума «Православная Русь»): «Успехи того или иного государственного руководителя, который стоял у истоков возрождения и модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отличился злодействами». Злодейство и экономические успехи, таким образом, ставятся на одну чашу весов. «Иначе мы бы не победили, иначе невозможна была бы индустриализация, без жертв было нельзя, в политике не бывает морали, тогда везде расстреливали» - так сегодня в самом простом изложении оправдывают репрессии.
...
Пропаганда выглядит такой пугающе архаичной, отрицающей ценности не только послевоенного мира, но и всей эпохи Возрождения из-за того, что каждый ее участник наполняет ее собственными, еще более архаичными представлениями о мире. На самом деле это не нападение, а защита, прежде всего самих себя, - от мира. Это результат накопившихся нерешенных этических и мировоззренческих проблем посттоталитарного сознания. Своими фобиями и страхами они теперь делятся с нами - в своих бесконечных передачах и шоу. Фактически мы имеем дело с непрерывным откровением - на десятке кушеток одновременно, каждый день, по 24 часа в сутки. Пропагандисты рассказывают нам не о других - Америке и Западе, - а о себе, знакомя нас с собственными «подвалами».
Их речь - это подсознательная попытка вытеснить собственных демонов в первую очередь. Наша невротизация - последствие прежде всего их собственной невротизации. И с этой точки зрения, не мы, а они главным образом - как это ни парадоксально звучит сегодня - жертвы пропаганды.
Андрей АРХАНГЕЛЬСКИЙ, российский публицист